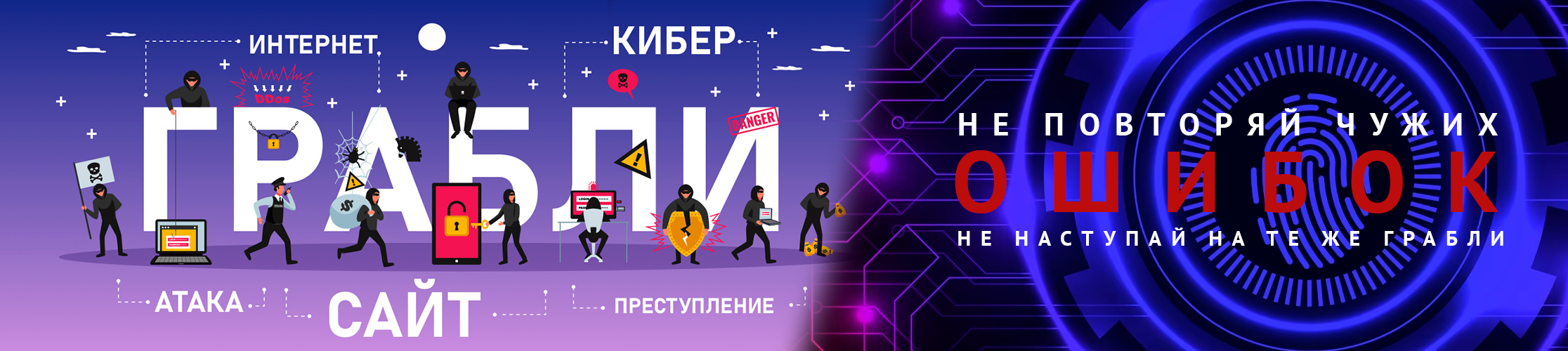ДУБРОВИН Н. - Черкесы

Печатая настоящий очерк, составляющий одну из глав приготовляемой к изданию книги: «Кавказ и его народы», считаю лишним входить в подробные объяснения о необходимости изучения быта и жизни народов, при ознакомлении с их историей, но, вместе с тем, признаю нужным сказать несколько общих слов в этом отношении.
Занятия мои, в течение нескольких лет, историей кавказской войны и развитием в крае как русского владычества, так и начал гражданственности, привели к убеждению, что, только ознакомившись вполне с бытом туземного населения, можно указать на причины, вызвавшие какое-либо распоряжение, то или другое историческое событие. Только при таком знании можно критически отнестись к фактам, сделавшимся достоянием истории. При изложении истории кавказской войны, более чем где-нибудь, необходимо изучение народного быта, потому что, как увидим впоследствии, отсутствие таких сведений между административными деятелями вели ко многим ошибкам, имевшим неблагоприятные и серьезные последствия.
Тот, кто стал бы отрицать необходимость изучения народного характера, пусть объяснит, почему, например, черкесы один лес отстаивают отчаянно, дерутся с необыкновенною храбростью, и, если придется, ложатся поголовно под русскими штыками, а другой не защищают вовсе? Почему те же черкесы очень редко защищают аул, тогда как лезгины, напротив, обороняются в своем ауле слишком упорно?
Объяснение этого явления можно найти только в особенностях быта обоих народов.
Большая часть территории, населенной черкесским племенем, [122] отличается плодородием, обилием леса и воды. Поэтому, если жена, дети и имущество отправлены в горы или в безопасное место, то черкес легко кидает свою деревянную саклю и кусок обработанной им земли и, без сожаления о них, отправляется далее в горы и в менее доступные места. При умеренности в пище и питье и при способности переносить все роды лишений, черкес знает, что и на новом месте найдет такой же хлебородный кусок земли для посева кукурузы, его питающей; найдет в изобилии лес для постройки сакли и будет иметь такую же чистую воду и пастбище для быков. А для него более ничего и не нужно. Черкес защищается в ауле только в том случае, когда находятся в опасности его жена, дети и имущество. Тогда он дерется с отчаянием и скорее сам погибнет, нежели уступит что-либо врагу.
Совсем в другом виде представляется быт лезгина. Место, занимаемое лезгинами, состоит, по большей части, из голых, безлесных и утесистых скал, песчаного или гранитного свойства; страна отличается недостатком воды и хороших плодородных земель. За неимением леса, лезгин строит свою хижину из камня; постройка ее стоит ему много труда, и потому лезгин защищает свой аул от разорения. Покидая его, он знает, что не скоро найдет землю удобную для посева проса или кукурузы, необходимых для его прокормления; не найдет пастбищ и корма для его скота, потому что повсюду видны одни бесплодные скалы; наконец, знает и то, что для постройки сакли ему необходимо положить много труда и времени, и от того, только по необходимости, решается на переселение. Эти особенности быта, с одной стороны, вызывали и особенный характер военных действий. Тот образ войны, который был удобоприменим на правом фланге кавказской линии и в Чечне, не мог считаться хорошим в Дагестане или на лезгинской линии. С другой стороны, изучение народного характера важно и для администратора, чтобы, крутым поворотом, не нарушить прежних привычек народа: подобные обстоятельства часто, в особенности на Кавказе, служили причиною не только волнений, но и вооруженных восстаний.
Все это указывает на необходимость этнографического описания племен, населяющих Кавказский перешеек. Так как этнографическое описание составляет только необходимое вступление к изложению исторического хода распространения русского владычества в крае, то нет надобности забираться в глубокую древность, искать происхождения того или другого народа, времени [123] поселения его на местах, ныне занимаемых; совершенно достаточно ознакомиться с характером народов в том положении, в котором застали их русские войска и власть, впервые появившиеся на Кавказе.
С этой последней точки зрения и составлен нижеследующий очерк. В нем большая часть сведений о быте черкесов относится непосредственно к периоду их самостоятельности, до вступления в число русских подданных, а потому изложение написано в прошедшем времени.
I.
Одежда черкеса, его жизнь и хищничество. — Черкесские деревни, дом и кунахская. — Гостеприимство и черкесский этикет. — Пища черкеса и угощение приезжего. — Обычай куначества и усыновления.
На самом высоком пункте правого берега реки Кубани, против устья реки Урупа, стоит крепость Прочный Окоп. Господствуя над окружающей местностью, он виден издалека; равно и из него видно далеко за реку. Перед крепостью, на противоположном берегу Кубани, расстилается необозримая зеленая равнина, ограниченная на отдаленном горизонте темною полосою лесистых гор, из-за которых белеется ряд зубчатых вершин главного кавказского хребта.
Река Уруп, с ее притоками, вьется серебристыми лентами по равнине, кажущейся издали совершенно гладкою, но, на самом деле, перерезанною глубокими рытвинами, оврагами или балками, служившими удобным местом для укрывательства черкесов, выжидавших случая прорваться в наши границы. Хищник, везде проникающий, трудно-уловимый, незнающий усталости, умеющий терпеливо сидеть в засаде, выжидать время, чтобы совершить убийство или похищение и почти всегда уходящий безвредно — таков был в этом случае характер черкеса, скрывавшегося в балках и оврагах, которыми изрезана кубанская равнина.
Начиная от р. Зеленчука и до Черного Моря, по течению Кубани, тянется эта равнина на расстоянии до четырехсот верст в длину и простираясь в ширину до семидесяти верст. Здесь был полный разгул для конных черкесов и для наших линейных казаков. Первые искали добычи, вторые гонялись за ними, оберегая линию. И те и другие отличались смелостью, ловкостью, наездничеством и сметливостью; оба уважали друг друга и [124] избегали встречи, но, встретившись, не отступали и не просили пощады...
Все существование черкеса сложилось так, что без хищничества не было для него жизни, не было удовольствий в настоящем, не было блаженства и в будущем мире. Выводив хорошо своего коня, выдержав его несколько часов без корма и призвав на помощь зейгута, божество, по понятию народа, покровительствующее наездникам, черкес отправлялся на хищничество или один, чаще же в компании, состоявшей из нескольких человек.
Одежда черкеса состояла из мохнатой бараньей шапки, обшитой галуном и прикрывавшей бритую его голову; из бешмета, черкески, ноговиц и сафьянных чевяков, по преимуществу красных (Крестьяне носят иногда кобенек, род куртки из холста (см. «На холме» Каламбия. «Русский Вест». 1861 г. № 11).). Все это отличалось хорошим вкусом, изяществом покроя, в особенности чевяки, обувь без подошвы. На последнюю черкесы обращали особенное внимание в своем наряде. Чевяки шьются обыкновенно несколько меньше ноги и, перед надеванием, предварительно размачиваются в воде, натираются внутри мылом и, сырые, натягиваются на ногу, подобно перчаткам. Надевший новые чевяки, должен выжидать, лежа, пока они, высохнув, примут форму ноги. Под чевяки впоследствии подшивают самую легкую и мягкую подошву.
Весь костюм черкеса и его вооружение приспособлены были как нельзя лучше к наездничеству и к конной драке. Бурочный чехол скрывал его винтовку от нечистоты; она закидывалась за спину и ремень к ней был пригнан так, что черкес легко заряжал ее на всем скаку, стрелял и потом перекидывал через левое плечо, чтобы обнажить шашку. Последнее оружие черкес особенно любил и владел им в совершенстве. Черкесская шашка остра как бритва, страшна в руках наездника и употреблялась им не для защиты, а для нанесения удара, который почти всегда бывал смертелен. Он носил шашку в деревянных, обтянутых сафьяном, ножнах и пригонял так, чтобы она не беспокоила его во время езды. За поясом заткнуты были два пистолета и широкий кинжал, неразлучный его спутник даже и в домашнем быту. На черкеске, по обеим сторонам груди, пришиты были кожаные гнезда для ружейных патронов, помещаемых в газырях — деревянных гильзах. На поясе висела жирница, отвертка и небольшая [125] сумка, наполненная разного рода вещами, дозволявшими всаднику, не слезая с лошади, вычистить оружие.
Несмотря на то, что черкес был с ног до головы обвешан оружием, оно пригонялось так, что одно оружие не мешало другому; ничто на нем не бренчало, не болталось, а это было весьма важно во время ночных набегов и засад. Его шашка, покоившаяся в сафьянных нахвах (ножны), не звучала; его винтовка, скрытая в бурочном чехле, не блестела; его чевяк, мягкий и гибкий как лапа тигра, не стучал; его конь, охлажденный ножом кастратора, не ржал на засаде, и, наконец, его язык, скудный гласными буквами и составленный из односложных слов, не издавал резких звуков при сговоре, сопутствовавшем ночному нападению.
Все незатейливое хозяйство в походной, скитальческой жизни черкеса находилось при нем. Отвертка винтовки служила огнивом, кремень и трут висели у него на поясе, в кожаной сумке. В одной из патронных гильз положены были серные нитки и куски смолистого дерева, для быстрого разведения огня. Рукоять плети и конец шашки обмотаны бумажной материей, напитанной воском; скрутив ее, он имел свечку. Богатый черкес носил всегда в кармане кабалар (бусоль), чтобы знать направление, куда следовало обращаться лицом во время молитвы. Хорошо выдержанный конь его был отлично выезжен и повиновался уздечке в совершенстве. Он не боялся ни огня, ни воды. Черкесские наездники шпор не употребляли, но погоняли лошадь тонкою плетью, с привязанным на конце ее плоским концом кожи, для того чтобы при ударе не причинять лошади боли, а только понукать ее хлопаньем плети.
Седло черкеса было легко и покойно, не портило лошади даже и тогда, когда по целым неделям оставалось на ее спине. Встречая часто неприятеля в засаде, спешенный, он возил за седлом присошки, сделанные из тонкого и гибкого дерева; за седлом висели небольшой запас продовольствия и тренога, без которой ни один наездник не выезжал из дому.
Разборчивый вкус черкеса, не терпевший ничего тяжелого и неуклюжего, положил свою печать и на присошке. Два тонких деревянных прута, обделанные по концам костью и связанные на верху ремешком — вот черкесские присошки. Они имеют вид циркуля, иглы которого втыкаются в землю, а наверх кладется ружье. Присошка легка и удобна в потреблении; если черкесу не было места [126] пристегнуть ее к седлу, он пристегивал к ружейному чехлу, и она не мешала ни на волос ни пехотинцу, ни всаднику.
По лесам и оврагам пробирался черкес на хищничество; ехал ночью, а днем отдыхал, скрывался и караулил стреноженного коня. Черкесы, как и вообще все горцы, употребляли весьма простой, но практичный способ спутывать лошадей треногами, отнимавшими у них способность делать большие прыжки и уходить далеко. «Тренога состоит из двух широких сыромятных ремней, одного длинного, а другого короткого, связанных между собою в виде латинского Т; на концах этих ремней находятся петли, из узких ремешков, застегиваемые на костяные чеки. Коротким ремнем спутываются обе передние ноги, несколько выше копыта, а концом длинного ремня обвязывается одна из задних ног выше колена» (Воспоминания кавказского офицера. «Русский Вестник» 1864 г. № 10. См. также Кавказ 1855 г. № 34.). Петли с чеками дозволяли снять треногу в одно мгновение, при первой неожиданной тревоге.
Поевши сухого чурека, партия хищников ложилась отдыхать; один стерег лошадей, другой с высоты наблюдал за окрестностью и, «по полету и крику птиц, заключал довольно верно о том, что происходило в непроницаемой глубине леса; и этих примет было достаточно для того, чтобы знать приближаются ли люди».
В такой тревоге проводил черкес всю свою жизнь. Он не хлопотал ни о теплой сакле, ни о мягкой постели, ни о вкусном и сытном обеде. Бурка заменяла ему теплую хату, защищала от дождя и непогоды; седло служило изголовьем, а об обиде он не думал, вполне надеясь на гостеприимство своих соотечественников. Не имея вовсе продовольствия и остановившись где-нибудь в лесу, партия хищников отправляла, бывало, одного из своих членов в ближайший аул, который, по обычаю, снабжал странников молоком, просом и баранами, оставляя их поблизости от места расположения партии и, по черкесскому этикету и вежливости, не стараясь узнать: из кого именно состоит партия, откуда и зачем она пришла в этот лес? Таков был обычай, выведенный из практической жизни черкеса. Если случалось потом, что партия эта причиняла вред русским или отгоняла скот из соседнего аула, то жители, покровительствовавшие и кормившие партию, не видав никого в лицо, с чистою совестью показывали, что не знают кто были хищники. Последние не разбирали ни [127] правого, ни виноватого. Черкесский хищник отгонял скот и у своего соседа, если представлялся к тому случай. Так, когда в 1848 году за Кубанью строилось укрепление, то князь одного из ближайших аулов постоянно снабжал отряд лесом за очень умеренную цену. Впоследствии оказалось, что он с товарищами хищнически угонял скот у своих подвластных, и не возбуждал в них этим негодования к себе, потому что кража производилась ловко (Барон Сталь. «Этнографический очерк черкесского народа (рукоп.) Воен. Уч. арх. глав. штаба.).
При осторожности жителей, хищничество не всегда удавалось; случалось часто, что, за украденного коня или быка, хищник платил жизнью или увечьем. Но в трудности состояла и вся слава хищника, дававшая молодому черкесу вес и уважение. Его начинали приглашать на все воровские предприятия; отличившийся в набегах собирал сам партии, и количество собранных под его начальство участников было лучшей вывеской его достоинства. Посвящая себя на такую жизнь, он похищенных быков, баранов и лошадей раздавал знакомым, потому что истый молодец должен был иметь щедрую руку, а сам ходить оборванным, питаться по знакомым и проводить молодость в тревогах и набегах.
Полуодетый, с обнаженною грудью и руками голыми до локтей, с косматою шапкою на голове и буркою на плечах — таков был тип настоящего хищника. Только три вещи: ружье, обувь и кинжал, без которых нельзя было жить в горах, бывали у него исправны, а все остальное висело в лохмотьях.
Страсть к хищничеству была у черкесов повсеместна. Но не одна жажда добычи побуждала черкеса к разбою и грабежу: слава заставляла его ходить на хищничество. Желание приобрести известность, сделаться храбрым джигитом (витязем), прославиться своею удалью, не только в одном каком-нибудь селении, но в целом обществе, в долинах и по горам, составляли его цель, его желание и, вместе с тем, лучшую награду переносимых трудов. Во многих случаях черкес брался за оружие, не знал отдыха, презирал опасность и во время хищничества и боя, для того только, чтобы стать героем песни, предметом былин и длинного рассказа у очага бедной сакли, а этого нелегко было достигнуть при врожденной скромности черкесов и отсутствии хвастовства и самохвальства. Известность богатыря распространяла около него очарованный круг безнаказанности. Быть удальцом значило быть аристократом; только один разбой давал диплом на почтение и [128] уважение; воровство и мошенничество считалось лучшею похвалою горцу (Н. Берзенов. Из воспоминаний об Осетии. Кавказ 1851 г. № 92.).
Терпение, настойчивость, смелость и самоотвержение в хищничестве были изумительны. К этой страсти примешалась впоследствии политическая идея, и воровство приняло религиозный характер. С 1835 года хищники приняли название хаджиретов; воровство в русских пределах считалось делом душеспасительным; смерть в наших границах давала павшему в бою венец шагида, или мученика. Набеги стали чаще и отличались своею дерзостью с наступлением ночи, переправившись за Кубань, черкесы проскакивали далеко в наши пределы, неожиданно нападали на селения, грабили оплошных жителей; отгоняли скот, захватывали пленных и к утру, переправившись опять за Кубань, скрывались среди мирных аулов и, при их содействии, добыча быстро уходила в глубь страны, от одного аула к другому. Преследовать, а еще более поймать хищников было крайне затруднительно: за Кубанью они были дома. Почти у самого левого берега этой реки, широкое пространство между Кубанью и горами было густо заселено небольшими группами черкесских аулов. На каждой версте можно было встретить два и три двора, обнесенные оградами (Бутков «Общие замечания о закубанцах» (рукоп.) Военно-ученый архив главного штаба.).
Заметивши на горизонте кучу сероватых бугорков, приподнимающихся иногда не более как на сажень от земли, а иногда и просто сливающихся с земною поверхностью, и следуя по направлению замеченного, путешественник приезжал к черкесскому селению. Кабардинские аулы издали отчасти похожи на русские деревни, но, присмотревшись хорошенько, и в них не найдешь никакого сходства: сакли раскинуты по одиночке или группами по разным направлениям, без всякой претензии и понятия об улицах. В постройке сакль нет и не было ничего общего: одна сложена из земли и камней и покрыта тою же землею и теми же камнями; другая построена из турлука и обмазана с обеих сторон глиною, перемешанной с рубленой соломой. Крыша покрыта тою же соломою или камышом и образует вокруг дома навес фута на четыре. Черкес любил жить отдельно, уединенно, и потому выбирал себе место для усадьбы далеко от соседа, где-нибудь между деревьями, которыми была так обильна его родина. От того весьма часто аул разбросан был на значительное расстояние вдоль [129] высокого и крутого берега реки, прислоняясь тылом к дремучему лесу, доставлявшему жителям верное спасение в случае нападения русских войск.
Главный дом черкеса состоял из нескольких комнат с низкими дверьми и маленькими окнами без стекол и весьма редко затянутых пузырем. Плотно запираемые ставнями окна служили более для наблюдения за тем, что делается на дворе, чем для освещения комнат; главный свет проходил через двери, растворенные настежь летом и зимою. В дверях не было ни запоров, ни замков; на ночь двери запирались и заколачивались изнутри деревянными клиньями, отчего в аулах каждый вечер поднимался всеобщий стук, заканчивавшей собою дневную деятельность его жителей. Около одной из стен комнаты устроено было полукруглое или четырехугольное углубление в земле для огня, над которым висела высокая труба, сделанная из плетня, обмазанного глиной; пол земляной, но так хорошо убитый, что не давал пыли. Вокруг печи приделаны полки, а иногда повешен целый шкаф, на полках которого становилась домашняя утварь и посуда, а оружие и одежда вешались на гвоздях. Широкие низкие кровати, покрытые войлоком и коврами, и небольшие круглые столы, расставленные по разным местам комнаты, составляли всю мебель туземца, а стоявшая на дворе четырехугольная маленькая, на двух колесах, арба, запрягаемая парою волов, его экипаж. Вдоль стен, на полках, ставилась, как украшение, европейская посуда, и если хозяин был человек зажиточный, то колонна тарелок, ничем не покрытая и разложенная на самом видном месте полки, свидетельствовала о его достатке (О природе и хозяйстве Кабарды кн. Т. Г. Баратова. Кавказ 1860 г. № 73. О гостеприимстве у черкесов. Кавк. 1859 г. № 7. Воспоминания кавказского офицера. «Рус. Вест». 1864 г. № 10. Кавк. 1855 г. № 34.).
Хозяин, его жены и взрослые дети имели свое отдельное помещение; но посторонний человек никогда не проникал в эти отделения, посвященные исключительно семейной жизни; если же при этом хозяин был человек богатый, то он укрывал свою семью от постороннего глаза особым забором, которым обносил сакли и хозяйственные постройки. Постройки эти состояли из кладовой и хлева для овец. Кладовая разделялась на четыре закрома для различных сортов хлеба и, в предохранение от мышей, устраивалась так, чтобы пол ее не касался земли. Один и тот же двор, огороженный плотным тыном, заключал в себе все три [130] строения. Рядом с ним находились огороды, где черкесы сеяли пшеницу, рожь, но преимущественно просо и кукурузу. Огороды окружены были деревьями и рощами, составлявшими для черкеса первую необходимость.
Вне ограды или забора у богатых, и в дальнем углу ее у бедных, строился хаджичиж — приемный дом для гостей, или кунахская. Самая значительная часть имущества, и лучшая его часть, шла у черкеса на убранство этой комнаты. Дом для гостей строился, по возможности, на удобном месте, огораживался частоколом или плетнем, оставляя чистый двор, обсаженный нередко ветвистыми деревьями, под тенью которых гость мог бы укрыться от летнего зноя. Люди со средствами устраивали другой такой же дом, меньших размеров, внутри семейной ограды, и этот последний назначался для приема исключительно одних только родственников или самых близких знакомых. При кунахской устроена была конюшня, а за оградою врыт столб (коновязь) для привязывания лошадей; над столбом небольшой круглый навес для предохранения седла от дождя и лошади от зноя.
Устройство кунахской и ее убранство не отличалось ничем от устройства обыкновенных черкесских домов; только камышовые циновки, ковры, тюфяки и подушки, составлявшие самую значительную и роскошную часть домашних принадлежностей черкеса, свидетельствовали о заботе хозяина сделать это помещение, по возможности, роскошным и удобным.
По одной стене комнаты ставился невысокий диван с подушками, покрытый узорчатой циновкой; в стене, над диваном, было вбито несколько деревянных гвоздей или колышков; на одном из них обыкновенно висела скрипка или балалайка о двух струнах, на другом нечто вроде лиры о двенадцати струнах, а остальные гвозди предназначались для размещения на них седла и оружия гостя и других походных его принадлежностей. Длинная дубовая скамья, передвигаемая, по мере надобности, с места на место, от одной стены к другой, составляла единственную мебель комнаты. Медный кувшин с тазом для омовения и намазлык, шкура дикой козы, или небольшой коврик, на который мусульмане становятся на коленях во время молитвы, составляли необходимую принадлежность каждой кунахской. Стеганые ситцевые или из синей бумажной материи одеяла, вместе с подушками и коврами, грудою складывались в одном углу комнаты. Слабый свет чачхури — плошка в которой горит жир — слабо освещал кунахскую, часто [131] состоявшую из одной комнаты, разделенной надвое верблюжьим сукном. Каждый хозяин сколько заботился о чистоте кунахской, столько же и о доставлении, по возможности, всех удобств гостю.
Гостеприимство развито было между черкесами в самой широкой степени и составляло одну из важнейших добродетелей этого народа. Гость был священною особою для хозяина, который обязывался угостить, охранить его от оскорблений и готов был жертвовать для него жизнью, даже и в том случае, если бы он был преступник или кровный его враг. Стоило только преступнику ввалиться в первую встретившуюся ему саклю — и он под защитою, он безопасен от преследований.
— Благословение на дом и жену твою! — говорил незнакомец, входя в саклю. Во имя славных дел твоих, седой джигит (витязь), требую гостеприимства, седла и бурки....
— Голова моя, — отвечал хозяин, — и заряд за друга или недруга. Ты гость мой и, стало быть, властелин мой.
Каждый путешествующий черкес останавливался там, где застигала его ночь, но предпочитал остановиться у знакомого, и притом человека достаточного, такого, которому не было бы слишком обременительно угостить приезжего.
Если едущих было много, то они, останавливаясь на ночлег, разделялись на несколько партий, которые и расходились по соседям.
Хозяин, заслышав издали о приезде гостя, спешил к нему навстречу и держал стремя, когда тот слезал с лошади. В глазах каждого черкеса не было таких поступков и услуги, которые могли бы унизить хозяина перед гостем, как бы велика ни была разница в их общественном положении. Звание хозяина, точно также как и гостя, здесь не играло никакой роли, и только некоторые самые незначительные оттенки делали разницу в приеме более редкого или почетного гостя от обыкновенного. Едва только гость слезал с лошади, как хозяин прежде всего снимал с него ружье и вводил в кунахскую, указывая там место, обложенное коврами и подушками, в самом почетном углу комнаты. Здесь снимали с приезжего все остальное оружие, которое или развешивалось в кунахской, или относилось в дом хозяина. Последнее обстоятельство имело у черкесов двоякое значение: или что хозяин брал, по дружбе, на себя всю ответственность за безопасность гостя в доме, или что, не зная его, не очень ему доверял. [132]
По принятому обычаю, в сакле, тотчас же разводился огонь, и чем больше было огня в очаге, тем больше почета для гостя. Если гость был важного происхождения, какой-нибудь князь, приехавший к другому князю, и имел за собою многочисленную свиту, то он обыкновенно останавливался у князя только в том случае, если у него не было гостей, а в противном случае располагался у одного из старших подвластных князю. При приезжем оставались старшие его спутники и человека два-три самых младших; прочая свита расходилась по домам остальных жителей аула.
Гостя принимали с тем радушием, которым отличаются вообще все горцы. Приезжий мог оставаться в гостях сколько ему было угодно, но приличие требовало не засиживаться слишком долго. Войдя в саклю, гость, во все время пребывания в ней, находился на руках и попечении о нем хозяина, который обязан был предохранять его от всякой неприятности и угощать вместе со свитою, как бы многочисленна она ни была. Для почетного гостя хозяин резал барана, а иногда и штуку рогатого скота. «Добрый хозяин, — говорит черкесская поговорка, — обязан доставить гостю сытный стол, хороший огонь и обильный фураж». Мысль о том, что скажут о нем гости по возвращении в свою сторону, преследовала хозяина; день и ночь он хлопотал о госте, старался быть при нем безотлучно и лишь оставлял его на несколько минут для того, чтобы заглянуть: сыты ли и накормлены ли лошади приезжих. Все это делалось без всякой мысли о вознаграждении, из одного убеждения, что он исполняет завет отцов и долг гостеприимства. Взять подарок от гостя значило навлечь на себя всеобщее презрение, да и сам гость не предлагал его, боясь оскорбить тем хозяина.
Усевшись на почетном месте, приезжий, как водится у черкесов, проводил некоторое время в глубоком молчании; хозяин и гость, если они были незнакомы, рассматривали друг друга с большим вниманием. Промолчав несколько мгновений, приезжий осведомлялся о здоровье хозяина, но считал неприличным расспрашивать о жене и детях. С другой стороны, несмотря на то, что черкесы крайне любопытны, они считали нарушением правил гостеприимства закидывать гостя вопросами: откуда он приехал, куда и зачем едет; гость, если желал, мог сохранить полное инкогнито. Во все время пребывания своего в гостях, приезжий избавлялся от всякой услужливости своему хозяину, точно также как и сам не составлял предмета любопытства для семейства хозяина. Но зато, во [133] все время пребывания в чужом доме, гость, по обычаю страны, оставался как бы прикованным к месту: встать, прохаживаться по комнате было бы не только отступлением от приличий, но многим из его соотечественников показалось бы даже и преступлением.
Усадивши гостя на самое почетное место и получив от него приветствие, хозяин спрашивал его о здоровье только тогда, если приезжий ему был знаком, а в противном случае делал этот вопрос не ранее того, как гость объявлял свое имя. Тогда хозяин приглашал его снять с себя верхнюю одежду, обувь, все остальные доспехи и отдохнуть. Между тем, в промежуток времени до ужина, считалось неприличным оставить гостя одного, и потому к нему являлись, один за другим, соседи хозяина с приветствием. Если гость был родственник или особо-уважаемое почетное лицо, то к нему приходила дочь хозяина, а за нею приносилось блюдо с сушеными плодами и разными овощами. В некоторых обществах существовало еще обыкновение или патриархальный обычай, по которому дочь хозяина должна была умыть ноги странника.
«Когда мы уселись на приготовленных для нас местах, говорит г. Т., посетивший горы («Русский Вестник» 1864 г. № 11.), и сняли обувь, в кунахскую вошла молодая девушка с полотенцем в руках, за которою служанка несла таз и кувшин с водой. В то мгновение, когда она остановилась передо мною, кто-то бросил в огонь сухого хворосту, и яркий свет, разлившийся по кунахской, озарил девушку с ног до головы. Она покраснела, улыбнулась, и молча наклонившись к моим ногам, налила на них воды, покрыла полотенцем и пошла к другому исполнять свою гостеприимную обязанность. Между тем, свет становился слабее, и она скрылась в дверях тихо, плавно, подобно видению. Более я ее не видал».
Почин всякого дела шел от гостя. Он начинал разговор и просил присутствующих садиться; те сначала отказывались, считая неприличным сидеть в присутствии гостя, но потом старшие по летам уступали вторичной просьбе и садились, а младшие, стоя, размещались вокруг комнаты. Во время разговора, по обычаю, гость обращался исключительно к почетным лицам или старшим по летам, и мало по малу разговор делался общим. Общественные интересы страны, внутренние происшествия, сведения о мире или войне, подвиги какого-нибудь князя, приход судов к черкесским берегам и другие предметы, заслуживавшие внимания, [134] составляли содержание разговора и были единственным источником, из которого почерпались все черкесские новости и сведения. В разговоре соблюдалось самое тонкое приличие, придающее черкесам, при обращении между собою, вид благородства и благопристойности («Этнограф. очерки черкесск. народа» — Барона Сталя (рукоп.). «От Зауралья до Закавказья» — г. Вердеревского. Кавказ 1855 г. № 30. «О природе и хозяйстве Кабарды» — кн. Т.Г. Баратова. Кавказ 1860 г. № 73. «Замечания на статью Законы и обычаи кабардинцев» — Хан-Гирея. Кавк. 1816 г. № 10. «О гостеприимстве у черкесов». Кавказ 1859 г. № 7. «О кавказской линии Дебу» — изд. 1829 года. «Записки русского офиц.» — Кавк. 1852 г. № 1 и 2.).
Появление прислуги, или сыновей хозяина, или, наконец, его соседей с умывальницею и тазом, для умовения рук, служило знаком того, что ужин готов.
Вслед за умыванием вносились в кунахскую небольшие кругленькие столики о трех ножках. Столики эти известны у черкесов под именем аны, слово составное: а — значит рука, ны — глаза, т.е., что на них обращаются глаза и руки всех кушающих. Черкесы были всегда чрезвычайно умеренны в пище: ели мало и редко, особенно во время походов и передвижений. «Печали желудка — говорит народная пословица — легко забываются, а не скоро лишь муки сердечные».
Зато на званых обедах, праздниках и угощениях они впадали в другую крайность: ели и пили настолько много, что надо было удивляться вместимости их желудков. В таких случаях пища черкесов бывала довольно разнообразна. Вместо хлеба употребляли паста — густо сваренную просяную кашу, которою окружают кушанья; круто-сваренная, она режется ломтями. Хлеб если и употреблялся в пищу, то большею частью просяной. Просо составляло исключительную принадлежность черкесского стола: из проса приготовляли хаптхупс — суп или похлебку с бараниной, и махсым — бузу или брагу, которую пили вместо вина, запрещенного магометанским законом (Буза приготовляется из проса, с прибавлением в нее, после брожения, меда.). Пища абадзехов состояла летом из проса и молока, а зимою ели просо, сыр и соленую баранину; за недостатком проса, абадзехи часто питались тыквою. Вообще пища черкесов состояла из говядины, баранины и конины (преимущественно молодых жеребят), которые солились и сушились с осени и были запасаемы до мая месяца. С мая же до октября употребляли в пищу кислое молоко, сыр и растительные продукты. [135] Кушанье подавалось чисто и опрятно; молоко черкесы ели деревянными ложками; говяжий отвар, или бульон, пили из деревянных чашек, а все остальное ели руками, употребляя пальцы вместо вилок и ложек. Каждое блюдо подавалось на особом столике, без тарелок, которые, как мы видели, употреблялись только для украшения комнат и расставлялись по стенам.
Зарезанный для почетного гостя баран варился в котле целиком, за исключением головы, ног и печени, и, окруженный этими принадлежностями, приправленными рассолом, подавался на одном из столов. Кушанье это известно под именем быго и быгомгазе. Следующее блюдо состояло также из отварной баранины, разрезанной на куски, между которыми ставилась каменная чашка с шипсом — кислым молоком, приправленным чесноком, перцем и солью; в этот рассол туземцы макали баранину. Затем, по порядку и достоинству, следовали: китлебс — курица с приправою лука, перца и масла; на столик клали пасту и, сделав в ней углубление, наполняли ее этим соусом; за китлебсом опять кислое молоко, с кусками отварной бараньей головы; творог, вареный с маслом и запеченный в тесте, в виде ватрушки, огромной величины; пирожки из творогу, пилав, шашлык, жареная баранина с медом, рассыпное просо со сметаною, сладкие пирожки и т. п. кушанья, в большем или меньшем изобилии, смотря по достатку хозяина. В конце обеда приносился котел с очень вкусным супом, который наливался в деревянные чашки с ушками и подавался гостям; за неимением ложек, пили его через край, прямо из чашки. Вино, пиво, буза, ила арак, и, наконец, кумыс составляли принадлежность каждого обеда. Число блюд смотря по значению гостя и состоянию хозяина, бывало иногда весьма значительно. Так, в 1827 году, натухажский старшина, Дешеноко-Темирок, угощая посетившего его анатолийского сераскира Гассана-пашу, подал ему за обедом сто двадцать блюд — чисто лукуловский стол!
Ни у знатных, ни у бедных не было для еды назначенных часов: каждый ел, когда ему захочется, отец в одном углу, мать в другом, дети там, где придется. Общий стол был в употреблении только при гостях.
За ужин садились по достоинству и значению; лета играли в этом деле весьма важную роль. Лета в общежитии черкесов ставились всегда выше всякого звания; молодой человек самого высокого происхождения обязан был встать перед каждым [136] стариком, не спрашивая его имени, и, оказывая уважение его седине, уступить ему почетное место, которое в приеме черкесов имело весьма большое значение.
Если гость был человек весьма знатный по происхождению или по заслугам, то он был один, а хозяин ему прислуживал; если же из низших, тогда сам хозяин разделял с ним трапезу.
Каждый столик с блюдом подносился прежде всего почетному гостю и, по черкесской вежливости, никто не касался до кушанья прежде старшего гостя. С первым куском пищи, подносимым ко рту, гость произносил вполголоса молитву, призывая на хозяина благодать свыше, и затем обязан был отведать непременно от каждого блюда, сколько бы их ни было: иначе он мог жестоко обидеть хозяина. Воздержание и умеренность в пище считались, в то же время, одним из похвальных качеств черкеса, и в особенности соблюдались высшим классом. Такой гость только прикасался к кушаньям, несмотря на неоднократные приглашения хозяина кушать досыта и побольше. Гость, отделивший часть блюда и передавший его слуге, оказывал тем большое уважение хозяину, который принимал подобный поступок, как знак особенного к нему внимания. Когда старший прекращал еду, то все сидевшие с ним за одним столом также переставали есть и стол передавался второстепенным посетителям, а от них переходил дальше, пока не опустеет совершенно, потому что черкес не сберегал на другой день того, что было однажды приготовлено и подано. Чего не съедали гости, то выносилось из кунахской и раздавалось на дворе толпе детей и зевак, сбегавшихся на каждое подобное угощение.
После ужина подметали пол и приносили снова умывальницу, и на этот раз подавали небольшой кусочек мыла, на особом блюдечке. Пожелав, гостю спокойствия, все удалялись кроме хозяина, который оставался тут до тех пор, пока гость не попросил его также успокоиться.
Приезжий засыпал с полною уверенностью, что лошади его накормлены, что им дана постилка, или что они пасутся под надзором особо назначенного на этот раз пастуха. Гость знал, что если лошадь или какая-нибудь вещь его пропадет, то хозяин, отвечая за нее, должен будет отдать ему свою вещь и сам потом разыскивать вора. Он знал также и то, что хозяйка дома встанет рано, до рассвета, чтобы успеть приготовить самые разнообразные блюда и как можно лучше угостить приезжего.
Поутру обыкновенно приносили гостю кислое молоко с пастою, [137] а иногда и с ватрушкою; в полдень подавали в небольшом количестве баранину, а вечером хозяева и их кухарки истощали все свое искусство, чтобы блеснуть угощением.
При отъезде хозяин и гость пили шесибз — застремянную чашу. Гость выходил на двор; лошади его и его свиты были оседланы и выведены из конюшни; каждую из лошадей держал особый человек и подавал стремя. Если гость приехал издалека, то ему оказывался еще больший почет: тогда хозяин, не довольствуясь прощанием в доме, садился также на лошадь, провожал несколько верст и возвращался домой только после нескольких долгих убеждений и просьб со стороны гостя.
В прежнее время было в обычае для гостя засевать особое поле просом или гомией, другое овсом для лошадей его и отделять для него часть скота из своего стада.
Чем более человек пользовался уважением, тем чаще посещали его гости. Если нечем был угощать путешественника, хозяин обращался к соседям, и те охотно снабжали его всем необходимым. Соседи жили между собою дружелюбно, охотно делились друг с другом последним куском, одеждой, всем что только можно было разделить, и считалось постыдным отказать нуждающемуся, кто бы он ни был. Хозяин должен был защищать гостя, хотя бы то стоило ему жизни. Принявший под свое покровительство преступника обязан был примирить обе стороны, и если ему это не удавалось, то передавал дело на рассмотрение народного суда. Если суд решал выдать обидчика головой обиженному, тогда давший убежище исполнял в точности приговор суда.
Отказ в гостеприимстве навлекал на хозяина нерасположение целого общества. Негостеприимство у черкесов считалось большим пороком и порицалось пословицею: «ты ешь один не делясь, как ногайский князь». Чем гостеприимнее был хозяин, тем лучше старался он угостить приезжего, и, отпуская его домой, при прощании делал весьма часто подарки, нередко весьма значительные с своей стороны, гости обязаны были в точности исполнять все обычаи страны, и ни словом, ни даже намеком не оскорбить хозяина, и тем не обесславить его гостеприимства. Нарушение правил гостеприимства, вело к кровавой вражде, возникавшей не только между двумя лицами, но между целыми родами и поколениями. По коренным черкесским законам, тот, кто оскорбил гостя, в чьем бы доме он ни был, платит хозяину дома штраф в одну сха, равняющуюся от 60 до 80 быков. В случае [138] убийства гостя, убийца платит девять таких цен за бесчестье дома независимо от цены крови, следующей родственникам убитого (Обычаи шапсугов и натухажцев. Л. Люлье. Запис. кавк. отд. имп. рус. геогр, общ. кн. VII, изд. 1866 г.). Черкесы до такой степени ревниво оберегали обычай гостеприимства, что если два лица, имевшие между собою вражду, встречались неожиданно в чужом доме, то, как бы вражда эта сильна ни была, они делали вид, что не замечают друг друга и держались один от другого как можно дальше.
Как образчик гостеприимства, его обычаев и условий, я поясню примером. Один из богатейших князей бзедухских был в гостях у князя другого племени, от которого, при отъезде, получил в подарок тысячу баранов. Обычай и честь требовали отдарить приятеля. Бзедухский князь звал его к себе в гости, но тот медлил и через год совершенно неожиданно явился с огромною свитою, как раз в то самое время, когда хозяина не было дома.
Остановившись перед кунахской, князь слез с коня; его ввели в комнату. Княгиня-хозяйка засуетилась в хлопотах об угощении и отправила гонцов к мужу, с известием о прибытии гостя. В ожидании приезда, супруга-княгиня была в крайнем затруднении; надо было готовить ужин, а она не знала как: готовить ли кушанье из мяса быка убитого поутру, или, как принято было между черкесами, в честь приехавшего гостя зарезать нового барана. Вызванный из кунахской, старший из подвластных князя человек опытный и хорошо знавший обычаи страны, разрешил затруднение: он определил приготовлять говядину и, кроме того, убить барана.
Эти затруднения замедлили приготовление ужина, но наконец его подали. Князь, приехавший издалека, проголодался, и, сев за стол, принялся за пищу с большим аппетитом. По обычаю, когда следовало приняться за мясо, в богатых и знатных домах прислуживающие подавали ножи, а без этой формальности никто не дотрагивался до мяса. Проголодавшийся же князь не соблюл этикета и, не дожидаясь когда подадут ему нож, вынул свой, бывший при ножнах кинжал, и начал им резать говядину.
— Ого! гости-то наши приехали вооруженные! — заметил вслух один из остряков, бывших в кунахской при угощении.
Князь молча кинул сердитый взгляд на остряка и продолжал [139] есть. Вскоре затем почетный гость потребовал пить, что означало, по принятому обыкновению, что, отрезав себе еще кусочка два мяса, князь перейдет к следующему блюду. Утомление и аппетит взяли и тут перевес над обычаем; куски шашлыка один за другим, и в значительном количестве, стали исчезать во рту гостя.
— По мокрому бруску провели ножом, — заметил вторично остряк.
Князь вспыхнул и, оттолкнув от себя стол с кушаньями, бросил ужин.
— Подайте мне оружие! — закричал он с гневом. — Я не с тем приехал к своему приятелю, чтобы слушать насмешки какого-нибудь наглеца. Оружие... лошадь! — кричал взбешенный князь.
Поднялась страшная суматоха. Подвластные хозяина просили гостя не сердиться, не уезжать и тем не навлекать бесчестия хозяину. Бедная и ничем невиновная княгиня рвала на себе волосы и также упрашивала рассерженного не делать позора ее мужу. Почетный гость уступил просьбам, согласился остаться и все успокоилось. Приехал хозяин и скоро узнал о случившемся происшествии. Утром на другой день он призвал к себе несчастного остряка и, в присутствии гостей, выгнал его из своих владений.
— Счастье твое, что с отцом твоим я ел хлеб и соль, а то ты жил бы там с рыбами, — сказал князь остряку, указывая на реку, протекавшую подле кунахской. Отныне нога твоя пускай не смеет переступать черту моих владений — вон отсюда! Но, чтобы ты не подумал будто я выгоняю с намерением, под этим предлогом отделаться от подарка, то на, возьми себе двух лучших коней моих и с Богом!..
Остряк, довольный тем, что так дешево отделался, ускакал без оглядки. Князь гостил около недели и, при отъезде домой, получил в подарок: трех девушек, двух мальчиков, шестнадцать прекрасных лошадей, множество драгоценного оружия и несколько десятков сундуков, наполненных шелковыми материями.
Обычай одаривать гостя породил у черкесов особый род гостей — хаче-уако, гость с просьбой. Такие лица, погостив несколько дней, просили у хозяина, преимущественно князя, подарить ему, например, десять лошадей, двадцать быков, да сотню овец. По обычаю, князь не мог отказать в подобной просьбе и должен был удовлетворить просителя («О гостеприимстве у черкесов» — М. Кавк. 1859 г. № 7, Замечания на ст. «Законы и обычаи кабардинцев.» Кавк. 1846 г. № 11. «Остатки христианства между закубанскими племенами» — Иоанна Хазрова. Кавк. 1846 г. № 42. «О природе и хозяйстве Кабарды» — кн. Баратова Кавк. 1860 г. № 73. Очерк этнографии черкесского народа барона Сталя (рукопись). Былые очерки Кабарды Степанова. Кавк. 1861 г. № 82. Закубанский край в 1864 г. П. Невский. Кавказ 1868 г. № 100.). Вместе с тем, пользуясь [140] гостеприимством, многие находили средство всю жизнь существовать на чужой счет. Образовался особый, хотя незначительный, класс людей, который, не имея оседлости и пристанища, скитался из одного аула в другой и вел жизнь бродяжническую. Они знали, что приезд их, под именем гостя, будет принят каждым из хозяев за приятное событие, доставляющее как ему, так и всем членам его семьи удовольствие и случай исполнить долг и священную обязанность. Зато между черкесами не было еще никогда примера, чтобы кто-нибудь умер от голода...
Гостеприимство, свято-чтимое между черкесами, не следует смешивать с правами покровительства, или куначества, также весьма распространенного в народе. Обычай куначества ведется с давних пор. В прежние времена, когда междоусобные войны раздирали маленькие черкесские племена, каждый черкес, вступив в границы земель чужого ему владения, считался как неприятель или чужеземец. Он подвергался опасности быть убитым, ограбленным или проданным, как невольник, куда-нибудь на отдаленный Восток. Чтобы не подвергаться этому, он должен быль иметь в чужом обществе влиятельного покровителя — кунака, на которого, в случае надобности, мог бы положиться. Обоюдная польза сделала куначество свято-чтимым между черкесами. Кунак (покровитель) и прибывший под его защиту были тесно связаны между собою, и никто не мог обидеть клиента, не подвергаясь неизбежному мщению кунака. Хотя впоследствии, с прекращением междоусобных раздоров, черкес не подвергался прежней опасности, но куначество так вкоренилось в народную жизнь, что ни один черкес не считал возможным обойтись без кунака, который бы мог его выручить из беды в случае ссоры, драки, убийства и воровства. Кунаком, конечно, мог быть только князь или владетельный дворянин, словом такое лицо, которого имя и влияние имели вес в горах.
Отказать кому бы то ни было в покровительстве считалось предосудительным. Человек, совершивший преступление и опасавшийся преследования, искал случая обеспечить себя защитою сильного. Явившись к тому князю, которого покровительство могло [141] доставить желаемую защиту, он касался рукою полы его платья и произносил: «отдаюсь под твое покровительство». Коренные обычаи черкесов обязывали покровителя вступаться во всяком случае за предавшегося его защите. Ни тот, ни другой ничего не теряли от того, напротив, оба оставались в выигрыше. Искавший защиты приобретал сильную подпору, а покровитель получал право, в случае обиды нанесенной его клиенту, взыскивать штраф в свою пользу. Право это составляло даже одно из преимуществ князей, которым они старались пользоваться, получая от него вещественные выгоды. И хотя оно вело часто к распрям и ссорам, но, несмотря на то, князь, допустивший безнаказанно обидеть им покровительствуемого, терял всякое уважение в народе.
Каждый иностранец, без различия происхождения и веры, имевший влиятельного кунака в одном из черкесских обществ, был совершенно безопасен в этом обществе. Все иностранцы, посещавшие секретно горные племена, жившие на берегу Черного Моря, отправлялись, по большей части, из Турции, имея с собою рекомендации на имя владетельных князей, которые делались их кунаками, т.е. принимали их под свое покровительство. Одни русские были изъяты у черкесов из этого права. Каждый русский, в глазах черкеса, находился под кровомщением и весьма немногие из черкесов решались вступать с нами в куначество, да и то не иначе, как с соблюдением с обеих сторон самой тщательной тайны.
Необходимость в постороннем покровительстве и помощи дала начало оригинальному обычаю, известному под именем усыновления. Лицо чуждого народа или чуждого общества, переселившись к одному из черкесских племен и желая там скрыться от преследований или остаться навсегда, изъявляло желание быть усыновленным одним из семейств того аула, в котором поселилось. Глава семейства призывал к себе желающего быть приемышем, в присутствии всех обнажал жене своей грудь и приемыш три раза устами дотрагивался до ее сосков. Этим символом глава семейства давал знать присутствующим, что приемыш был как бы вскормлен грудью его жены и считается отныне сыном в семействе. Такое усыновление устанавливало священную связь и налагало на приемыша те же обязанности, какие имеет сын к отцу. Точно также поступали два лица, согласившиеся составить между собою союз на жизнь и смерть. [142] Тогда жена или мать одного из них давала другу мужа или сына свою грудь, и с тех пор он пользовался покровительством, какое принадлежало действительному питомцу. Впоследствии обычай этот, до того развился, что стоило только дотронуться до груди женщины, чтобы остановить ее мужа от преследования даже и в том случае, если бы дотронувшийся до груди его жены был заклятый враг (Этнографичес. очерк черкесского народа барона Сталя (рукоп.). Беслений Абат Хан-Гирея. Кавк. 1847 г. № 43.). Следующий рассказ лучше всего подтвердит, до какой степени свято исполнялись у черкесов обычаи гостеприимства и усыновления.
Хегайкское племя занимало прежде важное место между черкесскими племенами. Князья этого племени, два родных брата, славились своим мужеством и щедростью. Старший из братьев, Атвонук, был средних лет и очень дурен собою, а младший, Канбулат молод и красоты необычайной; плечи его были так широки, талия так тонка, что когда он лежал, то кошка проходила под его боком, не задевая пояса — а это верх черкесской красоты!
Сознавая свой физический недостаток, Атвонук не хотел жениться, но настойчивость и убеждение друзей заставили его взять себе жену, с тем, однако, условием, чтобы и младший брат, Канбулат, последовал его примеру. Оба брата женились, и Канбулат, как бы предчувствуя что-то недоброе, вопреки обычаям своей родины, никогда не показывался своей невестке. Черкесская женщина и ныне пользуется полною свободою, а в прежнее время она принимала даже участие в делах общественных.
Пораженная красотою брата своего мужа, жена Атвонука искала случая с ним сблизиться. Однажды, в отсутствие мужа, приехали к ней в гости родственники и просили Канбулата провести их в покои невестки. Отказать в такой просьбе было бы неприлично, невежливо, и Канбулат принужден был, против собственного желания, побывать у жены брата. По удалении гостей, княгиня, под предлогом переговоров о домашних делах, удержала у себя Канбулата, и, с бесстыдством сладострастной женщины, потребовала от него клятвенного обещания провести с нею вместе наступающую ночь, угрожая, в противном случае, поднять тревогу и объявить народу, что он хотел ее обесчестить. Слова свои она подтвердила целованием молитвенника, который висел в серебряном футляре на ее груди. Пораженный бесстыдством, но [143] сознавая безвыходность своего положения, Канбулат дал слово исполнить желание своей невестки и в обеспечение его поцеловал тот же молитвенник.
Наступила ночь. Канбулат явился, но объявил, что пришел не для того, чтобы быть преступником, а для того только, чтобы исполнить клятву, к которой присоединил другую, что зарежет свою невестку при первом нескромном порыве, при неуместной и соблазнительной ласке. Обнаженная сабля, как доказательство решимости и твердости слова, легла между ним и невесткою. С наступлением утра, Канбулат бежал с ненавистной ему постели, не заметив, как одна из трех стрел, которые носили тогда черкесы на себе и дома, подкатилась под кровать: он забыл даже о том, что у него были три, а не две стрелы...
Возвратившийся Атвонук в первую же ночь заметил чужую стрелу и, по необыкновенной длине, узнал в ней стрелу брата.
— Чего я опасался, — сказал он одному из своих друзей, — то и случилось...
Оскорбленный Атвонук оставил свой дом и уехал к крымским татарам. Забытый всеми, он оставался долгое время незаметным при бахчисарайском дворе. Князь хегайкский не терял, однако, надежды и работал неутомимо над осуществлением своего желания отомстить Канбулату. Своею настойчивостью и неутомимостью он успел склонить хана дать ему войско и повел многочисленный отряд татар на владение брата, почти смежное с владениями крымских татар. Распустив слух, что татары идут на отдаленное племя, Атвонук хотел вернее достигнуть цели и захватить брата врасплох, но пегая лошадь открыла тайну. Приближенные Канбулата, узнав в стане татар лошадь Атвонука, дали знать своему господину. Князь бежал, однако семейство его попало в руки мстителя, старшего брата.
В особой палатке помещена была пленница, жена Канбулата, женщина твердого характера и пылкого ума. Она была в то время беременна, тогда как преступная жена Атвонука никогда не имела детей. Атвонук решил отмстить брату тем же, в чем подозревал его. Наступила ночь, и он отправился к пленнице, чтобы насытиться самым гнусным образом.
Гордо встретила пленница своего мстителя.
— Паш повелитель, сказала она — так величают черкешенки старших братьев своих мужей — ты торгуешь не совсем чисто: меняешь бесплодную корову на тельную... [144]
Слова эти устыдили Атвонука; он оставил свою невестку и объявил ей, что отныне будет считать ее родною сестрой. Такое признание не означало еще примирение с братом: Атвонук обратил весь свой гнев на разорение аулов, подвластных Канбулату. Последний, скрывшись от преследования брата, поехал к жанеевцам, жившим на юго-восток от хегайкского племени. Десяток или два бедных хижин настоящих обитателей Каракубанского острова, суть единственные потомки жанеевцев, некогда многочисленного воинственного племени, выставлявшего тысяч десять всадников и страшного для соседей. Один из представителей жанеевцев, князь Хакушмук, человек уважаемый и могущественный, был в кровной вражде с Канбулатом. Последний в одном из набегов убил его сына.
И вот, в одно утро, у ворот ограды маленькой кунахской этого князя остановился всадник на вороном коне. Дом был пуст: князя не было дома. Пользуясь отсутствием владельца, разбрелись и его слуги. Оставив свою лошадь у ограды, приезжий вошел в кунахскую и лег на скамейку. Одна из прислужниц, пришедшая убрать комнату, была поражена его красотою и тотчас же объявила своей госпоже о приезде гостя. Княгиня отправилась в кунахскую, в полном убеждении встретить там одного из самых близких друзей мужа: в противном случае, гость не пришел бы в маленькую гостиную, назначенную только для почетных лиц, а остановился бы в общей и большой гостиной.
Как только княгиня перешагнула за порог комнаты, незнакомец вскочил и бросился к ней.
— Будь моею восприемною матерью! — проговорил он, дотронувшись до ее груди.
Перед княгиней стоял Канбулат — убийца ее родного и единственного сына. Как ни велик был гнев княгини при первом взгляде на убийцу сына, но переступить строгие и священные законы гостеприимства не в силах, не в характере Черкеса. Следуя народному обычаю, княгиня взяла Канбулата под свою защиту и поместила в безопасном месте.
Прошло несколько времени. В одну из отлучек мужа княгиня приготовила пир и, собрав из всего племени самых почетных старшин, поручила им просить старого князя, чтобы тот дал слово исполнить одну из самых кровных и заветных просьб ее.
Сидя вечером в своей кунахской, князь, ничего не подозревавшей о происходившем в доме, был немало удивлен, когда к [145] нему явились старшины, сопровождаемые служителями с блюдами, наполненными разными кушаньями. Князь принял старшин ласково. Сели за ужин; полные чаши стали ходить по рукам и разговор оживился. Старшины объявили тогда князю свое поручение.
— Согласен! — сказал развеселившийся старик; но с условием, чтобы княгиня сама и при всех открыла мне свою тайную просьбу.
В прежнее время, в высшем классе черкесского общества жена никогда не приходила к мужу в присутствии посторонних, и потому двое из старшин отправились к княгине объявить волю князя. Она не затруднилась нарушить обычай и, в сопровождении тех же посланных, вошла к пирующим.
— Я прошу тебя оказать гостеприимство этому человеку, — сказала она, указывая на следовавшего за нею Канбулата, и при этом объяснила обстоятельства, вынудившие ее принять его под свою защиту.
Неожиданная встреча эта взволновала старого князя.
— Конечно, отвечал он с наружным спокойствием и некоторою важностью, я не могу мстить человеку, который в моем доме ищет моего покровительства; но ты напрасно вздумала поить нас перед открытием твоей тайны, столь для нас приятной: мы могли забыться и наш стыд пал бы тогда на тебя.
— Острие стрелы прошло, так перья не сделают вреда, — заметили дворяне, умевшие позлословить и польстить, и просили княгиню прислать, по этому случаю, еще бузы и браги.
— Дельно! — заметил и старый князь; — только послаще той, которую ты мне поднесла теперь...
На следующий день жанеевский князь объявил Канбулата своим гостем; но, следуя обычаям, требовал от него плату за кровь, объявив, что как все богатство Канбулата заключается теперь в лошади и оружии, то он удовольствуется и этим.
Канбулат исполнил требование, оставил у себя только одну саблю, но и ту должен был отдать, по вторичному требованию жанеевского князя.
— Что сказал Канбулат, отдавая саблю? — спросил князь принесшего ее старшину.
— Сказал только, отвечал тот, что саблю не считает драгоценностью, а оставил ее у себя для обороны от собак. Тут у него прибавил старшина, на глазах, кажется, навернулись слезы...
— Он достоин и оружия, и уважения! — перебил князь. [146] Отнесите все обратно и скажите, что я хотел только испытать его, хотел узнать, принадлежите ли он к числу людей, которые служат основой умной поговорки наших предков: храброго трудно полонить, но в плену он покорен судьбе; а труса легко взять в плен, но тут-то, когда уже нечего бояться, он и делается упрямым. Скажите ему, что я раскаиваюсь в моем желании испытать его, и пока он мой гость — моя рука, мое оружие, все принадлежит ему.
Изгнанник был более чем доволен великодушием своего врага-покровителя, но, по местным обстоятельствам, не мог оставаться у него слишком долго, и потому просил жанеевского князя проводить его к бзедухам, жившим в вершинах речек Псекупса и Пшиша.
Представители сильного бзедухского племени были в сборе, на совещании по общественным делам, когда среди них явился жанеевский князь, в сопровождении своего гостя. Объяснив причину своего прибытия, старый князь поручил Канбулата великодушию их племени.
Обнажив, по тогдашнему обычаю, голову, Канбулат, обратился к собранию:
— Бзедухи! отдаюсь под защиту вашего поколения. Отныне, после Бога, на вас моя надежда. Не мои достоинства, а ваша честь и слава порукою мне в вашем великодушии.
Бзедухи объявили себя защитниками гостя. Семь лет тянулась с тех пор самая ожесточенная война между братьями; лучшие воины с обоих сторон остались на поле сражения; разорение и кровопролитие опустошили землю и истощили обе стороны враждовавших, но ни та, ни другая сторона не хотела уступить и вражде не предвиделось конца.
Виновница всех несчастий, жена Атвонука, жившая у своего отца, вздумала сшить полный мужской костюм и послала его в подарок Канбулату.
Посланный был захвачен Атвонуком, узнавшим работу своей жены. Желая еще более убедиться в преступной связи брата с женою, Атвонук, отправив посылку со своим слугою, поручил ему просить Канбулата на мнимое свидание. Канбулат изрубил в куски подарок ненавистной ему женщины и приказал его отвезти тому, кем он прислан, прибавив от себя, что кто впредь к нему явится с подобным поручением, того он повесит на первом попавшемся дереве. [147]
Этот поступок внушил Атвонуку мысль, что брат не так виновен, как он предполагал, и он решился помириться. После переговоров, братья съехались на свидание.
— Я знал, — сказал Канбулат при встрече с братом, что невинность моя оправдает меня; но ты не хотел видеться со мною, а я был готов скорее погибнуть, чем открыть кому бы то ни было несчастный случай, бесславивший наш дом.
Братья помирились. После продолжительного кровопролития наступил мир; бзедухам осталась слава строгого исполнения обычая гостеприимства, благородной защиты гонимого и удовольствия слышать свои подвиги в народной песне и гордиться ею (Князь Канбулат, черкесское предание Хан Гирея. «Русский Вестник» 1844 г. № 1.)...
© Адыги.ру
Текст воспроизведен по изданию: Черкесы (Адиге) // Военный сборник, № 3. 1870